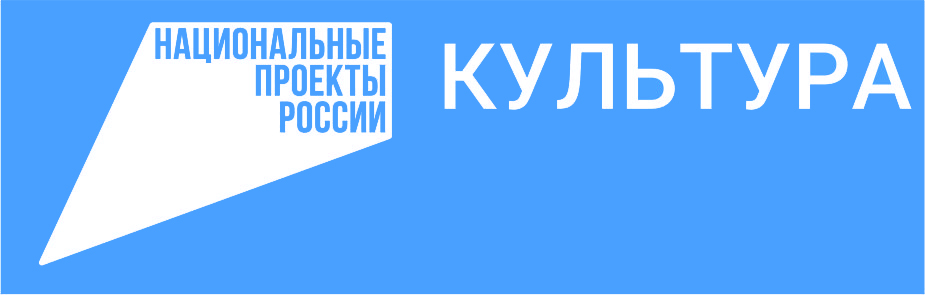БАШМАЧКИН, КОПЕЙКИН, ПОПРИЩИН...
Премьера Екатеринбургского театра кукол «Гоголь. Триптих» соединила на сцене три самых трагических произведения: «Шинель», «Повесть о капитане Копейкине» из «Мертвых душ» и «Записки сумасшедшего». Постановочная группа спектакля тоже представляет собой «географический» триптих, объединяя авторов из трех городов. Создатель инсценировки и режиссер Игорь Казаков, художники Денис Козлов, Ольга Дворовая и композитор Егор Забелов — из Минска, режиссер по пластике — петербуржец Роман Каганович, артисты — наши, екатеринбургские.
Много лет назад, в 2008-м, на сцену Екатеринбургского театра кукол уже являлся Башмачкин в одноименном с героем спектакле Николая Коляды по пьесе Олега Богаева. Башмачкина играл Олег Ягодин, единственный исполнитель в живом плане. Он и Шинель (Наталья Гаранина) проживали встречу и не пережили разлуку. Она одна была способна согреть и утешить его в холоде и тьме петербургской долгой ночи. И звучит в памяти до сих пор ее зовущий шелестящий голосок: «Башмачкин! Башмачкин!..» Пусть это просто «тряпка» — выстраданная шинель, но для него больше нет объекта любви в «крокодильем» мире, где никто никому не брат. «Маленькая» потеря — огромна и несовместима с жизнью «маленького человека».
Новый гоголевский спектакль этого театра не о потере любви, превращающей живое в мертвечину. Он об уничтожении достоинства, единственного, что должно принадлежать любому из нас с рождения. С рождения — маленькому. Уничтожение постепенное, почти незаметное, и наотмашь — бедностью, пренебрежением, грабежом, избиением, доведением до безумия. Мы видим в спектакле процесс, который своей будничностью ужаснее результата. Процесс этот реанимирует истории трех «мертвых душ», досье на которых достают из ящиков какой-то тайной канцелярии. Целая стена таких ящичков похожа на стену крематория с ячейками для урн или на
холодильник в морге, где покойным привязывают номерок к ноге. Стена во всю сцену Малого зала — фон, и знак, и действующее лицо, поглощающее и выплевывающее персонажей, как огромный пресыщенный зверь.
Куклы и актеры в этом спектакле неразделимы в создании образов. Они вместе проходят путь метаморфоз, ломающих, калечащих беззащитного человека до окончательного уничтожения. Очевидное и прежде мастерство наших актеров здесь просто поражает. Превращения Башмачкина у Германа Варфоломеева — от младенчика до старательного чиновника с гусиным перышком, до слизняка, потерявшего свое единственное убежище-раковину. Вот он — человек в цилиндре, новой шинели, но с огромными босыми ступнями (Башмачкин без башмаков). Вот он согнулся, забыл о человеческом в себе, и снова — кукольное лицо. Бледно-гипсовое, как посмертная маска, смотрит на нас с тульи возвышающей беднягу шляпы. Голос артиста, такой глубокий и красивый в начале истории (рассказчик), всякий раз преображается вместе с героем и замолкает вместе с ним.
Капитан Копейкин изначально — инвалид войны 1812 года. Кукла без руки, без ноги, на костылях, в партнерстве со своим демиургом Валерием Полянсковым предстает, все-таки, не покорным человекообразным существом, а человеком, наивно надеющимся на справедливость. Отвергнутый, отверженный этот Копейкин то распадается на части, то из последних сил собирает сам себя в отчаянной попытке жить так, как заслужил. Но...
Самые страшные превращения происходят в спектакле с Поприщиным. Он не умрет. Будет ему куда хуже. В исполнении Александра Шишкина этот персонаж — поначалу мученик собственного честолюбия («по
праву благородного происхождения») и мечтаний о прельстительной барышне из высшего круга, уязвимый для любого насмешника. А потом становится истинным мучеником, попав в ручищи «стены». Унизительно
раздетый, содрогающийся от всего, что вымораживает остатки больной души, он будет затравленно вжиматься в кафельный угол «душевой» дома скорби, последнего своего пристанища. Предельно выразительно
пластическое воплощение роли актером — «высокие порывы», безумные фантазии, полная раздавленность.
Нереальность, фантасмагоричность происходящего мытарства (так определен жанр спектакля) контрастирует с реальным зрительским сопереживанием «мытарям» — жгучим, почти невыносимым, когда невозможно оторвать взгляд от сцены, не вслушиваться в нарастающие волны трагической музыки безысходности. Не одну только жалость вызывают «мытари». Это скорбь по ним, уничтожаемым немилостью, нежалостью, небрежением тех, от кого абсолютно зависят. Тех, кто по людским законам может и обязан проявлять к ним гуманные чувства и действия. Персонажи обречены на гибель при жизни принятием правил «стены». Эта стена на сцене то нарядно украшена орденами, как грудь «очень значительного лица», чьи циклопических размеров голова и кулаки возвышаются над ней, то опять громада департаментского шкафа, на фоне которой начальник с рыбьей башкой производит «трепанацию черепа» нерадивому подчиненному, буквально вынося ему мозг.
А над стеной — холодный прекрасный Невский проспект, словно увиденный в перевернутый бинокль. Такой здесь маленький и недоступный для маленького человека.
«.. милость к падшим призывал» — Пушкин надеялся. Гоголь — нет. Башмачкин, Копейкин, Поприщин — они, эти падшие, в парадоксальном симбиозе смирения и амбиций «подняться», полагались на высочайшую милость в своих высказанных и невысказанных мольбах, которых никто никогда не то что не исполнит, а просто и внимания-то на просителя не обратит. Если и возьмут его на заметку, то для того лишь, чтобы «лить холодную воду» на голову безумцу. «Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им?.. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего...».
Башмачкин, Копейкин, Поприщин... После спектакля «Гоголь. Триптих» горестный список невольно продолжаешь, пополняя его и книжными персонажами, и живыми людьми. Знакомыми, знакомыми знакомых, собой, в конце концов. «Все мы вышли из гоголевской «Шинели» — не только о литературе.